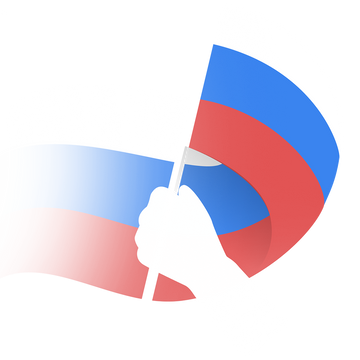
Я живу в авторитарной стране, и сколько бы люди ни протестовали, ничего не меняется. Все бессмысленно? С научной точки зрения — нет
Что случилось?
После ареста Алексея Навального Россию охватили массовые протесты. Общая численность митингующих, по некоторым оценкам, превысила 200 тысяч. Но похоже, что власть ни на какие уступки идти не собирается: тысячи людей арестованы, многим грозят уголовные дела, а причин ожидать скорого освобождения Навального нет.
Трудно не задаться вопросом: а нужны ли протесты вообще? Не слишком ли они опасны? Не лучше ли дождаться, пока власть сама начнет реформы? Специально для рубрики «Идеи» политологи Маргарита Завадская, Алексей Гилёв и Елена Горбачева обобщили мировой опыт — и объяснили, есть ли какой-то смысл в происходящем.
Может, протесты вообще не нужны? И власть сама постепенно начнет реформы из-за падения цен на нефть или чего-то подобного?
Есть разные варианты успешного перехода от авторитаризма к демократии. Но у авторитарных лидеров не очень много стимулов идти на добровольную демократизацию. Скажем, они могут демонстрировать намерения демократических реформ в надежде на финансовую поддержку международных организаций. Однако чаще всего дело ограничивается шагами вроде политической амнистии и символическим допуском оппозиции к выборам. При этом власти сохраняют контроль над политическим процессами и могут прекратить либерализацию в любой момент.
Реформы крайне редко становятся необратимыми, если их гарантами выступают сами автократы. Их энтузиазм сходит на нет, как только становится реальной угроза потери власти. Достаточно напомнить, что маневры по тактической либерализации в середине минувшего десятилетия совершал не кто иной, как Александр Лукашенко.
Другой свежий пример ненадежности демократизации сверху — Мьянма, где в начале февраля 2021 года случился переворот. Военные, более десяти лет добровольно делившиеся властью с оппозицией, разочаровались в управляемой демократии и снова взяли власть в свои руки.
Даже если автократу очень нужна иностранная помощь, он нередко готов продлить власть ценой изоляции, пример тому — многолетнее правление Роберта Мугабе в Зимбабве.
И что — в итоге диктаторы теряют власть все-таки из-за протестов? А как же раскол элит?
Наличие мирного гражданского протеста — ключевое условие. Раскол элит может никак не проявлять себя десятилетиями. Чтобы брожение в верхах стало открытым на определенном этапе, необходима массовая общественная мобилизация.
При классических «демократических транзитах» 1980-х годов — в Бразилии, Южной Корее, Чили или на Филиппинах — представители элиты признали демократические институты именно благодаря массовым протестным движениям. В ряде случаев, например в Индонезии (1999), на Тайване (2000) и в Мексике (2000), оппозиции удавалось победить на открытых выборах, но власти этих стран шли на честное соревнование с оппонентами только потому, что стремились сбить накал растущего общественного недовольства. Верхушечные перевороты, подкрепленные лишь декларациями о благе народа, никогда не ведут к демократизации.
Фактически, даже когда решение о либерализации изначально принимается сверху, реформаторы опираются на «давление улиц»: они оправдывают введение демократических институтов необходимостью избежать народной революции. В случае Испании (исключительном во многих отношениях) после смерти Франко элиты декларировали свои демократические устремления отнюдь не в политическом вакууме, а на фоне массовых протестов.
В поддержке масс нуждался и Михаил Горбачев, и в конечном счете именно массовые народные выступления против ГКЧП в августе 1991 года помешали попыткам советской верхушки откатить демократические реформы обратно.
В каких-то случаях власть и оппозиция могут пойти на переговоры или заключить пакт о транзите, как в Польше в 1989-м — тоже на фоне устойчивого оппозиционного движения.
Но ведь власти могут просто всех избить, а потом посадить?
Жестокое подавление оппозиции — эффективный инструмент только в краткосрочной перспективе.
Действительно, чем больше вероятность насильственного подавления протеста, тем меньше люди протестуют, поскольку издержки становятся слишком высокими. Но наиболее результативные репрессии — относительно случайные и адресные.
Ученые часто отмечают перевернутую U-образную зависимость между репрессиями и вероятностью протестов. Если репрессий мало, это сигнал слабости режима (и люди не боятся выходить), а если в ответ власти резко повышают уровень репрессий, участники в какой-то момент перестают бояться (репрессии против всех одинаковые, поэтому гражданам уже «нечего терять, кроме своих цепей»). Пример соседней Беларуси — яркое свидетельство того, что чрезмерные репрессии провоцируют еще бо́льшую волну протеста и способствуют делегитимации режима.
Масштабные и неоправданно жестокие репрессии могут спровоцировать негативную реакцию среди либерально настроенной части элит: в чрезмерном применении силы они будут видеть возможные риски и репутационные издержки для себя. Кроме того, «ковровые» репрессии в адрес случайных граждан могут привести к утрате легитимности режима в глазах аполитичного большинства.
Наконец, репрессии чреваты не только косвенными, но и прямыми издержками: необходим хорошо оплачиваемый или иным образом вознаграждаемый силовой аппарат, готовый применить силу против своих сограждан. Исследователи называют это явление «ловушкой репрессий»: после каждой последующей эскалации репрессий режим едва ли сможет отыграть назад и вернуться к «травоядной» версии авторитаризма.
Согласно подсчетам экономиста Дэниела Тризмана, в 16–29% случаев демократизации изменение режима произошло после того, как власти инициировали контрпродуктивное насилие. Такое случилось, например, после восстания в Бангладеш в 1990 году. То есть во многих случаях именно чрезмерные и жестокие репрессии властей могут привести к усилению протеста и последующей демократизации.
Значит, протесты в итоге обязательно закончатся победой демократии?
Нет. На результативность протестов влияет соотношение сил. Так, власти КНР в 1989 году подавили протестное движение, сопоставимое по потенциалу с успешными движениями в других коммунистических странах того же времени. А современные правительства Ирана и Венесуэлы подавляют мощные протестные волны при не самой благоприятной экономической и международной конъюнктуре и несмотря на раскол элит. Помимо лояльности силовиков, имеет значение, скажем, наличие у режима организованной базы поддержки.
Многое зависит и от организованности самих протестных движений. Во-первых, любому протесту предшествует работа по координации между несогласными. Протест, как правило, состоит из «ядра» — профессиональных политиков и оппозиционеров и «периферии» — тех, кто примкнул по воле случая. Массовых протестов, состоящих только из случайно примкнувших, в общем-то, не бывает.
Во-вторых, качество координации среди ключевых участников может сильно отличаться от протеста к протесту, от страны к стране. Иногда организационные структуры настолько рыхлые и нестабильные, что массовая мобилизация со стороны кажется полностью децентрализованной и спонтанной. Белорусское сопротивление после президентских выборов 2020 года часто описывают именно так.
В России нынешние протесты отличаются от волны 2011–2012 годов помимо прочего тем, что сейчас есть массовая и охватывающая сотни городов и десятки регионов мобилизация. Правда, пока непонятно, насколько устойчивой окажется структура штабов Навального с учетом того, что координаторов и волонтеров постоянно задерживают.
Помимо организационных структур оппозиции помогает наличие перебежчиков со стороны режима и конъюнктура (она же структура политических возможностей), способствующая тому, что власть начинает допускать грубые ошибки. Самые распространенные из них: развязывание военных конфликтов, ведущих к собственному поражению, игнорирование недовольства граждан, попытки провести ограниченные реформы, которые перерастают в масштабные трансформации.
Дэниел Тризман подсчитал, что ошибки диктаторов были существенным фактором перемен как минимум в 60% случаев демократизации.
Может, надо просто действовать решительнее?
Нет. В современных обществах насильственные действия снижают численность протестующих и отпугивают потенциальную поддержку извне. Сегодня обычный гражданин стремится избегать насилия. В связи с этим неудивительно, что государственная пропаганда любит представлять мирные собрания оппозиции как беспорядки, а протестующих — как хулиганов и террористов. Исследовательница Эрика Ченовет показывает (.pdf), что с середины ХХ века ненасильственные кампании достигают успеха с бо́льшей вероятностью, чем насильственные.
Что тогда важно, если не решительность действий?
Численность протестов. Мы регулярно наблюдаем, как власти публикуют официальные отчеты, сообщающие о минимальной численности участвующих в протесте. Эти цифры могут обескураживать. На самом деле это не просто шпилька, призванная позлить протестующих. Дело в том, что численность протестов имеет важное символическое значение. Чем она выше, тем больше и их значение.
Например, согласно модели американского экономиста Тимура Курана, высокая численность протестов служит сигналом о низком уровне поддержки режима и избавляет недовольных от ощущения собственной маргинальности. Более того, чем больше людей участвует, там безопаснее присоединяться к протесту.
В модели британской исследовательницы Сюзанн Ломанн имеет значение не только численность сама по себе, но и относительная умеренность протестного движения — когда участниками становятся не только профессиональные активисты, но и «обычные люди». Поэтому оппозиционерам так важно привлекать звезд из далеких от политики сфер.
Самое главное, что в случае массовых протестов и экспоненциально нарастающего числа участников люди перестают бояться насильственного подавления (которое само по себе все еще возможно). Этот феномен известен как теория «критической массы» (.pdf) или «точки невозврата» (tipping point) и был математически смоделирован более 30 лет назад. Согласно этому представлению, издержки каждого последующего протестующего будут становиться все меньше по мере увеличения численности, а издержки подавления протеста будут расти.
Так сколько должно выйти людей, чтобы протест победил?
Точное определение «оптимальной» численности в реальной жизни едва ли возможно, и о нем мы можем узнать лишь после успешной мобилизации.
Но, согласно подсчетам Эрики Ченовет, активное и продолжительное участие в протестной кампании 3,5% населения неминуемо приводит к ее успеху. В случае России это свыше четырех миллионов человек.
И тут важно снова вспомнить, что мирные протесты в среднем в четыре раза более многочисленны, чем насильственные.
А время протестов важно? Все «цветные революции» были связаны с выборами?
Нет, время не так важно. Стереотип, согласно которому для постсоветских стран выборы имеют особое значение в протестной мобилизации, распространен. Но политические режимы в этих государствах сильно отличаются друг от друга. Для одних выборы действительно играют фундаментальную роль в политическом процессе, поскольку с помощью них можно прийти к власти, а оппозиция в них полноценно участвует. Именно поэтому в Грузии и Украине все внимательно следили, как эти выборы пройдут. И так случилось, что протесты с последующей сменой власти именно в этих двух странах в 2003 и 2004 годах многим запомнились больше всего.
В действительности же массовые протесты на постсоветском пространстве, как и во всем мире, возникают по самым разным поводам и с выборами часто не связаны. Для более закрытых (гегемонистских) постсоветских авторитаризмов выборы не могут быть местом реальной конкуренции, а у власти есть возможности не допустить на них самых опасных кандидатов и даже решительно скорректировать результаты. Оппозиция в таких обстоятельствах борется за снижение легитимности режима, приобретение второстепенных постов, но не за победу и смену политического курса.
Да, в таких странах выборы могут привести к единовременному переживанию коллективного опыта оскорбленного достоинства и столкновения с несправедливостью. Но они — не уникальное в своем роде событие, способное мобилизовать широкие слои населения. Непопулярные реформы (например, пенсионная реформа 2018 года) или коррупционные скандалы вполне могут сработать триггерами протестов не хуже выборов.
И кстати, термин «цветные революции» не очень удачный. Освещая грузинские и украинские события в 2000-е и 2010-е годы, государственные СМИ часто обвиняли Запад во вмешательстве и применении неких «технологий» мобилизации. В результате это словосочетание стало политизированным и акцентирующим внимание на иррациональных мотивах протестующих и влиянии внешних сил. Но в действительности и «революционное творчество», и международный интерес к событиям были очень разными.
Так или иначе прямо сейчас (и все последние годы) протесты только разгоняют, и миллионы они не собирают. От них точно есть толк?
В долгосрочной перспективе протестные события приносят их участникам два типа «бонусов».
Во-первых, если число выходящих людей не снижается, они посылают сигнал обычным недовольным гражданам и колеблющимся представителям элиты. Во-вторых, так формируется социальный капитал и укрепляются организационные структуры оппозиционного движения и сети гражданской поддержки (защита прав заключенных, сбор и распространение альтернативных данных).
Наконец, будут возникать новые волны протестов, и не только режим будет их подавлять, но и протестное движение изобретет новые тактики сопротивления. Это не политический спринт, а марафон, но изматывает он не только протестующих.
Маргарита Завадская, Алексей Гилёв и Елена Горбачева